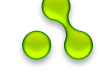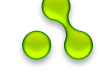41.
(26.11.2008 21:38)
0  
Владимир ВОЙНОВИЧ
ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА
Роман-анекдот
КНИГА ПЕРВАЯ "ЛИЦО НЕПРИКОСНОВЕННОЕ"
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Было это или не было, теперь уж точно сказать нельзя, потому что
случай, с которого началась (и тянется почти до наших дней) вся история,
произошел в деревне Красное так давно, что и очевидцев с тех пор почти не
осталось. Те, что остались, рассказывают по-разному, а некоторые и вовсе
не помнят. Да, по правде сказать, и не такой это случай чтоб держать его в
памяти столько времени. Что касается меня, то я собрал в кучу все, что
слышал по данному поводу и прибавил кое-что от себя, прибавил, может быть,
даже больше, чем слышал. В конце концов, история эта показалась мне
настолько занятной, что я решил изложить ее в письменном виде, а если вам
она покажется неинтересной, скучной или даже глупой, так плюньте и
считайте, что я ничего не рассказывал.
Произошло это вроде бы перед самой войной, не то в конце мая, не то в
начале июня 1941 года, в этих, примерно, пределах.
Стоял обыкновенный, жаркий, как бывает в это время года, день. Все
колхозники были заняты на полевых работах, а Нюра Беляшова, которая
служила на почте, прямого отношения к колхозу не имела и была в тот день
выходная, копалась на своем огороде окучивала картошку.
Было так жарко, что, пройдя три ряда из конца в конец огорода, Нюра
совсем уморилась. Платье на спине и под мышками взмокло и, подсыхая,
становилось белым и жестким от соли. Пот затекал в глаза. Нюра
остановилась, чтобы поправить выбившиеся из-под косынки волосы и
посмотреть на солнце скоро ли там обед.
Солнце она не увидела. Большая железная птица с перекошенным клювом,
заслонив собой солнце и вообще все небо, небо, падала прямо на Нюру.
- Ай! - в ужасе вскрикнула Нюра и, закрыв лицо руками, замертво
повалилась в борозду.
Кабан Борька, рывший землю возле крыльца, отскочил в сторону, но,
увидев, что ему ничего не угрожает, вернулся на прежнее место.
Прошло сколько-то времени. Нюра очнулась. Солнце жгло спину. Пахло
сухой землей и навозом. Где-то чирикали воробьи и кудахтали куры. Жизнь
продолжалась. Нюра открыла глаза и увидела под собой комковатую землю.
" Что же я лежу?" - подумала она недоуменно и тут же вспомнила про
железную птицу.
Нюра была девушка грамотная. Она иногда читала "Блокнот агитатора",
который регулярно выписывал парторг Килин. В "Блокноте" недвусмысленно
говорилось, что всяческие суеверия достались нам в наследство от темного
прошлого и их надо решительно искоренять. Эта мысль казалась Нюре вполне
справедливой. Нюра повернула голову вправо и увидела свое крыльцо и кабана
Борьку, который по-прежнему рыл землю. В этом не было ничего
сверхъестественного. Борька всегда рыл землю, если находил для этого
подходящее место. А если находил неподходящее, тоже рыл. Нюра повернула
голову дальше и увидела чистое голубое небо и желтое слепящее солнце.
Осмелев, Нюра повернула голову влево и снова упала ничком. Страшная
птица существовала реально. Она стояла недалеко от Нюриного огорода,
широко растопырив большие зеленые крылья.
"Сгинь!" - мысленно приказала Нюра и хотела осенить себя крестным
знамением, но креститься, лежа на животе, было неудобно, а подниматься она
боялась.
И вдруг ее словно током пронзило: "Так это же аэроплан!" И в самом
деле. За железную птицу Нюра приняла обыкновенный самолет "У-2", а
перекошенным клювом показался ей неподвижно застывший воздушный винт.
Едва перевалив через Нюрину крышу, самолет опустился, пробежал по
траве и остановился возле Федьки Решетова, чуть не сбив его правым крылом.
Федька, рыжий мордатый верзила, известный больше под прозвищем Плечевой,
косил здесь траву.
Летчик, увидев Плечевого, расстегнул ремни, высунулся из кабины и
крикнул:
- Эй, мужик, это что за деревня?
Плечевой нисколько не удивился, не испугался и, приблизившись к
самолету, охотно объяснил, что деревня называется Красное, а сперва
называлась Грязное, а еще в их колхоз входят Клюквино и Ново-Клюквино, но
они на той стороне реки, а Старо-Клюквино, хотя и на этой, относится к
другому колхозу. Здешний колхоз называется "Красный колос", а тот имени
Ворошилова. В "Ворошилове" за два последние года сменилось три
председателя: одного посадили за воровство, другого - за растление
малолетних, а третий, которого прислали для укрепления, сперва немного
поукреплял, а потом как запил, так и пил до тех пор, пока не пропил личные
вещи и колхозную кассу, и допился до того, что в припадке белой горячки
повесился у себя в кабинете, оставив записку, в которой было только слово
"эх" с тремя восклицательными знаками. А что это "Эх!!!" могло значить,
так никто и не понял. Что касается здешнего председателя, то он хотя тоже
пьет без всякого удержу, однако на что-то еще надеется.
Плечевой хотел сообщить летчику еще ряд сведений из жизни окрестных
селений, но тут набежал народ.
Первыми подоспели, как водится, пацаны. За ними спешили бабы, которые
с детишками, которые беременные, а многие и с детишками и беременные
одновременно. Были и такие, у которых один ребятенок за подол цепится,
другой за руку, вторая рука держит грудного, а еще один в животе
поспевает. К слову сказать, в Красном (да только ли в Красном?) бабы
рожали охотно и много, и всегда были либо беременные, либо только что
после родов, а иногда и вроде только что после родов, а уже и опять
беременные.
За бабами шкандыбали старики и старухи, а с дальних полей, побросав
работу, бежали и остальные колхозники с косами, граблями и тяпками, что
придавало этому зрелищу сходство с картиной "Восстание крестьян", висевшей
в районном клубе.
Нюра, которая все еще лежала у себя в огороде, снова открыла глаза и
приподнялась на локте.
" Господи, - сверкнула в мозгу ее тревожная мысль, - я здесь лежу, а
люди давно уж глядят".
Спохватившись на свои, еще не окрепшие от испуга ноги, она проворно
пролезла между жердями в заборе и кинулась к постепенно густевшей толпе.
Сзади стояли бабы. Нюра, расталкивая их локтями, стонала:
- Ой, бабы, пустите!
И бабы расступались, потому что по голосу Нюры понимали, что ей край
надо пробиться вперед.
Потом пошел слой мужиков. Нюра растолкала и их, говоря:
- Ой, мужики, пустите!
И, наконец, очутилась в первом ряду. Она увидела совсем близко
самолет с широкой масляной полосой аж по всему фюзеляжу и летчика в
коричневой кожаной куртке, который, прислонившись к крылу, растерянно
глядел на подступавший народ и вертел на пальце потертый шлем с дымчатыми
очками.
Рядом с Нюрой стоял Плечевой. Он посмотрел на нее сверху вниз,
засмеялся и сказал ласково:
- Ты гляди, Нюрка, живая. А я думал, тебе уже все. Я ведь аэроплан
первый заметил, да! Я тут у бугра сено косил, когда гляжу: летит. И в
аккурат, Нюрка, на твою крышу, на трубу прямо, да. Ну, думаю, сейчас он ее
счешет.
- Брешешь ты все, - сказал Николай Курзов, стоявший от Плечевого
справа.
Плечевой споткнулся на полуслове, посмотрел на Николая тоже сверху
вниз, поскольку был выше на целую голову, и, подумав, сказал:
- Брешет собака. А я говорю. А ты свою варежку закрой да и не
раскрывай, пока я тебе не дам разрешения. Понял? Не то я тебе на язык
наступлю.
После этого он поглядел на народ, подмигнул летчику и, оставшись
доволен произведенным впечатлением, продолжал дальше:
- Эроплан, Нюрка, от твоей трубы прошел вот на вершок максима. А
минима и того менее. А если б он твою трубу зачепил, так мы бы тебя завтра
уже обмывали, да. Я бы не пошел, а Колька Курзов пошел бы. Он до женского
тела любопытный. Его прошлый год в Долгове в милиции три дня продержали за
то, что он в женскую баню залез и под лавкой сидел, да.
Все засмеялись, хотя знали, что это неправда, что Плечевой это
придумал сейчас. А когда перестали смеяться, Степан Луков спросил:
- Плечевой, а Плечевой, а ты когда увидал, что эроплан за трубу
зачепится, испужался, ай нет?
Плечевой презрительно сморщился, хотел сплюнуть, да некуда было -
всюду народ. Он проглотил слюну и сказал:
- А чего мне пужаться? Эроплан не мой, и труба не моя. Кабы моя была,
может, спужался б.
В это время один из мальчишек, крутившихся тут же под ногами у
взрослых, изловчился и шарахнул по крылу палкой, от чего крыло загудело,
как барабан.
- Ты что делаешь? - заорал на мальчишку летчик.
Мальчишка испуганно юркнул в толпу, но потом снова вылез. Палку,
однако, выбросил.
Плечевой, послушав какой звук издало крыло, покачал головой и спросил
у летчика со скрытым ехидством:
- Свиной кожей обтянуто?
Летчик ответил:
- Перкалью.
- А чего это?
- Такая вещь, - объяснил летчик. - Материя.
- Чудно, - сказал Плечевой. - А я думал он весь из железа.
- Кабы из железа, - влез опять Курзов, - его бы мотор в высоту не
поднял.
- В высоту поднимает не мотор, а подъемная сила, - сказал известный
своей ученостью кладовщик Гладышев.
За образованность Гладышева все уважали, однако в этих его словах
усомнились.
Бабы этих разговоров не слушали, у них была своя тема. Они
разглядывали летчика в упор, не стесняясь его присутствия, словно он был
неодушевленным предметом, и вслух обсуждали достоинства его туалета.
- Кожанка, бабы, - чистый хром, - утверждала Тайка Горшкова. - Да еще
со складками. Для их, видать, хрома не жалеют. жалеют.
Нинка Курзова возразила:
- Это не хром, а шевро.
- Ой, не могу! - возмутилась Тайка. - Какое ж шевро? Шевро - то с
пупырышками.
- И это с пупырышками.
- А где ж тут пупырышки?
- А ты пошшупай - увидишь, - сказала Нинка.
Тайка с сомнением посмотрела на летчика и сказала:
- Я бы пошшупала, да он, наверно, щекотки боится.
Летчик смутился и покраснел, потому что не знал, как на это все
реагировать.
Его спас председатель Голубев, который подъехал к месту происшествия
на двуколке.
Само происшествие застало Голубева в тот момент, когда он вместе с
одноруким счетоводом Волковым проверял бабу Дуню на предмет
самогоноварения. Результаты проверки были налицо: председатель слезал с
двуколки с особой осторожностью, он долго нащупывал носком сапога железную
скобу, подвешенную на проволоке вместо подножки.
В последнее время пил председатель часто и много, не хуже того, что
повесился в Старо-Клюквине. Одни считали, что он пил, потому что пьяница,
другие находили, что по семейным причинам. Семья у председателя была
большая: жена, постоянно страдавшая почками, и шестеро детей, которые
вечно ходили грязные, вечно дрались между собой и много ели.
Все это было бы еще не так страшно, но, как на грех, дела в колхозе
шли плохо. То есть не так, чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать
хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже.
Поначалу, когда от каждой избы все стаскивали в одну кучу, оно
выглядело внушительно, и хозяйствовать над этим было приятно, а потом
кое-кто спохватился и пошел тащить обратно, хотя обратно-то не давали. И
председатель себя чувствовал вроде той бабы, которую посадили на кучу
барахла сторожить. Окружили ее с разных сторон, в разные стороны тащат.
Одного за руку схватит, другой в это время из-под нее еще что-нибудь
высмыкнет, она к тому, этот убежал. Что ты будешь делать?
Председатель тяжело переживал создавшееся положение, не понимая, что
не он один виноват в этом. Он все время ждал, что вот приедет какая-нибудь
инспекция ичревизия, и тогда он получит за все и сполна. Но, пока что, все
обходилось. Из района наезжали иногда разные ревизоры, инспектора и
инструкторы, пили вместе с ним водку, закусывали салом и яйцами,
подписывали командировочные удостоверения и уезжали подобру-поздорову.
Председатель даже перестал их бояться, но, будучи человеком от природы
неглупым, понимал, что вечно так продолжаться не может и что нагрянет
когда-нибудь Высшая Наиответственнейшая Инспекция и и скажет свое
последнее слово.
Поэтому, узнав, что за околицей, возле дома Нюры Беляшовой,
приземлился самолет, Голубев ничуть не удивился. Он понял, что час
расплаты настал, и приготовился встретить его мужественно и достойно.
Счетоводу Волкову он приказал собрать членов правления, а сам,
пожевав чаю, чтобы хоть чуть-чуть убить запах, сел в двуколку и поехал к
месту посадки самолета. Поехал навстречу своей судьбе.
При его появлении толпа расступилась, образовав между ним и летчиком
живой коридор. По этому коридору председапредседатель довольно твердой
походкой прошел к летчику и издалека протянул ему руку.
- Голубев Иван Тимофеевич, председатель колхоза, - четко назвал он
себя, стараясь дышать на всякий случай в сторону.
- Лейтенант Мелешко, - представился летчик.
Председателя несколько смутило, что представитель Высшей Инспекции
такой молодой и в таком скромном чине, но он виду не подал и сказал: -
Очень приятно. Чем могу служить?
- Да я и сам не знаю, - сказал летчик. - У меня маслопровод лопнул и
мотор заклинило. Пришлось вот сесть на вынужденную.
- По заданию? - уточнил председатель.
- Какое задание? - сказал летчик. - Я вам говорю - на вынужденную.
Мотор заклинило.
"Давай, давай заливай больше", - подумал про себя Иван Тимофеевич, а
вслух сказал:
- Если чего с мотором, так это можно помочь. Степан, - обратился он к
Лукову, ты бы пошуровал, чего там такое. Он у нас на тракторе работает, -
объяснил он летчику. Любую машину разберет и опять соберет.
- Ломать не строить, - подтвердил Луков и, достав из бокового кармана
своей промасленной куртки разводной гаечный ключ, решительно двинулся к
самолету.
- Э-э, не надо, - поспешно остановил его летчик. - Это не трактор, а
летательный аппарат.
- Разницы нет, - все еще надеялся Луков. - Что там гайки, что здесь.
В одну сторону крутишь закручиваешь, в другую сторону крутишь -
откручиваешь.
- Вам надо было не здесь садиться, - сказал председатель, - а возле
Старо-Клюквина. Там и МТС, и МТМ враз бы все починили.
- Когда садишься на вынужденную, - терпеливо объяснил летчик, -
выбирать не приходится. Увидел поле не засеяно, прижался.
- Травопольной системы придерживаемся, потому и не засеяно, - сказал
председатель, оправдываясь. Может, хотите осмотреть поля или проверить
документацию? Прошу в контору.
- Да зачем мне ваша контора! - рассердился летчик, видя, что
председатель к чему-то клонит, а к чему, непонятно. Хотя подождите. В
конторе телефон есть? Мне позвонить надо.
- Чего ж сразу звонить? - обиделся Голубев. - Вы бы сперва
посмотрели, что к чему, с народом бы поговорили.
- Послушайте, - взмолился летчик, - что вы мне голову морочите? Зачем
мне говорить с народом? Мне с начальством поговорить надо.
"Во какой разговор пошел, - отметил про себя Голубев, - на "Вы" и без
матюгов. И с народом говорить не хочет, а прямо с начальством".
- Дело ваше, - сказал он обреченно. - Только я думаю, с народом
поговорить никогда не мешает. Народ, он все видит и все знает. Кто сюда
презжал, и кто чего говорил, и кто кулаком стучал по столу. А чего там
говорить! Он махнул рукой и пригласил к себе в двуколку. Садитесь, отвезу.
Звоните сколько хотите.
Колхозники снова расступились. Голубев услужливо подсадил летчика в
двуколку, потом взгромоздился сам. При этом рессора с его стороны до
отказа прогнулась.
2
Дежурный по части капитан Завгородний в расстегнутой гимнастерке и
давно не чищеных, покрывшихся толстым слоем пыли сапогах, изнывая от жары,
сидел на крыльце штаба и наблюдал за тем, что происходило перед входом в
казарму, где размещалась комендантская рота.
А происходило там вот что. Красноармеец последнего года службы Иван
Чонкин, маленький, кривоногий, в сбившейся под ремнем гимнастерке, в
пилотке, надвинутой на большие красные уши, и в сползающих обмотках, стоял
навытяжку перед старшиной роты Песковым и испуганно глядел на него
воспаленными от солнца глазами.
Старшина, упитанный розовощекий блондин, сидел, развалясь, на
скамеечке из некрашеных досок и, положив ногу на ногу, покуривал
папироску.
- Ложись! - негромко, словно бы нехотя скомандовал старшина, и Чонкин
послушно рухнул на землю.
- Отставить! - Чонкин вскочил на ноги. - Ложись! Отставить! Ложись! -
Товарищ капитан! - крикнул старшина Завгороднему. - Вы не скажете, сколько
там на ваших золотых?
Капитан посмотрел на свои большие часы Кировского завода (не золотые,
конечно, - старшина пошутил) и лениво ответил:
- Половина одиннадцатого.
- Такая рань, - посетовал старшина, - а жара уже хоть помирай. - Он
повернулся к Чонкину. Отставить! Ложись! Отставить!
На крыльцо вышел дневальный Алимов.
- Товарищ старшина, - закричал он, - вас к телефону!
- Кто? - спросил старшина, недовольно оглядываясь.
- Не знаю, товариш старшина. Голос такой хриплый, будто простуженный.
- Спроси, кто.
Дневальный скрылся в дверях, старшина повернулся к Чонкину.
- Ложись! Отставить! Ложись!
Дневальный вернулся, подошел к скамейке и, с участием глядя на
распластанного в пыли Чонкина, доложил:
- Товарищ старшина, из бани звонят. Спрашивают: мыло сами будете
получать или пришлете кого?
- Ты же видишь, я занят, - сдерживаясь, сказал старшина. - Скажи
Трофимычу - пусть получит. И снова к Чонкину: - Отставить! Ложись!
Отставить! Ложись! Отставить!
- Слышь, старшина, - полюбопытствовал Завгородний. - А за что ты его?
- Да он, товариш капитан, разгильдяй, - охотно объяснил старшина и
снова положил Чонкина. Ложись! Службу уже кончает, а приветствовать не
научился. Отставить! Вместо того, чтоб как положено честь отдавать, пальцы
растопыренные к уху приставит и идет не строевым шагом, а как на
прогулочке. Ложись! Старшина достал из кармана платок и вытер вспотевшую
шею. Устанешь с ними, товариш капитан. Возишься, воспитываешь, нервы
тратишь, а толку чуть. Отставить!
- А ты его мимо столба погоняй, - предложил капитан. - Пусть пройдет
десять раз строевым шагом туда и обратно и поприветствует.
- Это можно, - сказал старшина и заплевал папироску. - Это Вы
правильно, товарищ капитан, говорите. Чонкин, ты слышал, что сказал
капитан?
Чонкин стоял перед ним, тяжело дыша, и ничего не отвечал.
- А вид какой! Весь в пыли, лицо грязное, не боец, а одно
недоразумение. Десять раз туда и сюда, равнение на столб, шагом...
старшина выдержал паузу, - марш!
- Вот так, - оживился капитан. - Старшина, прикажи: пусть носок тянет
получше, сорок сантиметров от земли. Эх, разгильдяй!
А старшина, ободренный поддержкой капитана, командовал:
- Выше ногу. Руку согнуть в локте, пальцы к виску. Я тебя научу
приветствовать командиров. Кругом... марш!
В это время в коридоре штаба зазвонил телефон. Завгородний покосился
на него, но не встал, уходить не хотелось.
Он закричал:
- Старшина, ты посмотри, у него обмотка размоталась. Он же сейчас
запутается и упадет. Прямо со смеху умрешь. И зачем только такое чучело в
армию берут, а, старшина?
А телефон в коридоре звонил все настойчивей и громче. Завгородний
неохотно поднялся и вошел в штаб.
- Слушаю, капитан Завгородний, - вяло сказал он в трубку.
Расстояние между деревней Красное и местом расположения части
составляло километров сто двадцать, а может быть, больше, слышимость была
отвратительная, голос лейтенанта Мелешко забивали какой-то треск, музыка,
и капитан Завгородний с трудом понял, в чем дело. Сначала он даже не
придал сообщению лейтенанта должного значения и вознамерился вернуться к
прерванному зрелищу, но по дороге от телефона к дверям до него дошел смысл
того, что он только что услыхал. И, осознав случившееся, он застегнул
ворот гимнастерки, отер сапог о сапог и пошел докладывать начальнику
штаба.
Постучав кулаком в дверь (начальник штаба был несколько глуховат),
Завгородний, не дожидаясь ответа, приоткрыл ее и, переступив порог,
закричал:
- Разрешите войти, товарищ майор?
- Не разрешаю, - тихо сказал майор, не поднимая головы от своих
бумажек.
Но Завгородний не обратил на его слова никакого внимания, он не
помнил случая, чтобы начальник штаба кому-либо что-либо разрешил.
- Разрешите доложить, товарищ майор?
- Не разрешаю. - Майор поднял голову от бумаг. - Что у вас за вид,
кпитан? Не бриты, пуговицы и сапоги не начищены.
- Пошел ты... - вполголоса сказал капитан и весело посмотрел майору в
глаза.
По губам капитана начштаба понял примерный смысл сказанного, но не
был уверен в этом, поскольку вообще не мог себе представить, чтобы младший
по званию дерзил старшему. Поэтому он сделал вид, что не понял капитана, и
продолжал свое:
- Если вам не на что купить крем в военторге, я вам могу подарить
баночку.
- Спасибо, товарищ майор, - вежливо сказал Завгородний. - Разрешите
доложить: у лейтенанта Мелешко отказал мотор, и он сел на вынужденную.
- Куда сел? - не понял начштаба.
- На землю.
- Перестаньте острить. Я вас спрашиваю, где именно приземлился
Малешко.
- Возле деревни Красное.
- Что же делать? - Он растерянно посмотрел на Завгороднего.
Тот пожал плечами.
- Вы начальник, вам виднее. По-моему, надо доложить командиру полка.
Начальник штаба и раньше не отличался большой смелостью по отношению
к вышестоящим командирам, но теперь, по причине глухоты, боялся их еще
больше, помня, что его в любое время могут уволить в запас.
- Командир сейчас занят, - сказал он, - руководит полетами.
- Вынужденная посадка - летное происшествие, - напомнил Завгородний.
- Командир должен знать.
- Значит, вы думаете, удобно отрывать командира для этого дела?
Завгородний промолчал.
- А может, Мелешко сам как-нибудь справится с этим?
Завгородний посмотрел на него с сочувствием. Начштаба перевелся сюда
из пехоты и мало понимал в летном деле.
- Разрешите отлучиться из части, товариш майор. Я сам доложу
командиру.
- Вот и правильно, - обрадовался майор. - Вы сами идите и доложите
ему от своего имени. Вы дежурный по части и имеете право. Постойте,
Завгородний. Как же вы уйдете? А вдруг в части что-нибудь случится.
Но Завгородний уже не слышал его, он вышел и плотно закрыл за собой
дверь.
Примерно через час он вернулся в штаб с командиром полка
подполковником Опаликовым и с инженером полка Кудлаем. В штабе к тому
времени оказался еще подполковник Пахомов, командир батальона аэродромного
обслуживания. Он выяснял с начальником штаба какие-то свои дела и при
появлении Опаликова хотел уйти, но тот его задержал. Стали обсуждать, что
делать. Кудлай сказал, что на складе запасных моторов нет, а из дивизии
раньше, чем через неделю ничего не получишь. Завгородний предложил
отстыковать крылья, погрузить самолет на автомобиль и привезти сюда.
Начальник штаба предложил тащить самолет на буксире, чем вызвал
презрительную ухмылку Завгороднего. Подполковник Пахомов молчал и что-то
отмечал в своем блокнотике, проявляя усердие в службе.
Опаликов слушал говоривших насмешливо. Потом встал, прошел из угла в
угол.
- Заслушав и обсудив всю ту хреновину, которую каждый из вас нес
здесь в меру своих способностей, я пришел к выводу, что самолет мы оставим
на месте до прибытия мотора. Если тащить его сто двадцать километров на
автомобиле, то от него останутся только дрова. А пока там надо поставить
караул, хотя бы от пацанов, чтобы не растащили приборную доску. Это тебя
касается. Он махнул рукой в сторону Пахомова.
Подполковник Пахомов положил блокнот на подоконник и встал.
- Извините, ничего не получится, - робко сказал он.
Хотя он был чином равен Опаликову, возрастом старше и непосредственно
ему не подчинялся, Пахомов чувствовал превосходство Опаликова над собой,
знал, что тот ближе к начальству, раньше его станет полковником, и поэтому
обращался к нему на "Вы".
- Это почему еще не получится? - нетерпеливо спросил Опаликов.
Он не любил никаких возражений.
- Вся комендантская рота вторую неделю в карауле, и сменить некем. -
Пахомов взял блокнот и заглянул в него. Семь человек в лазарете,
двенадцать на лесозаготовках, один в отпуске. Все.
- Ну хоть одного можно найти? Хоть завалящего какогонибудь. Пусть он
там поспит возле машины, лишь бы было с кого спросить.
- Ни одного, товариш подполковник, - при этом Пахомов сделал такое
жалкое лицо, что не поверить ему было никак невозможно.
- Да, дело плохо, - задумался Опаликов и тут же вскрикнул: - Ура!
Нашел! Послушай-ка, пошли-ка ты этого..... как его... боец у тебя есть
такой зачуханный, на лошади ездит.
- Чонкин, что ли? - не поверил Пахомов.
- Конечно, Чонкин. До чего же я все-таки умный человек, - удивился
Опаликов и хлопнул себя по лбу ладонью.
- Так он же... - попробовал возразить Пахомов.
- Что он?
- На кухню дрова некому будет возить.
- Незаменимых людей у нас нет, - сказал командир полка.
Этот тезис был апробирован. Подполковник Пахомов не посмел ничего
возразить.
3
Дорогой читатель! Вы уже, конечно, обратили внимание на то, что боец
последнего года службы Иван Чонкин был маленького роста, кривоногий, да
еще и с красными ушами. "И что это за нелепая фигура! скажете вы
возмущенно. Где тут пример для подрастающего поколения? И где автор увидел
такого в кавычках героя?" И я, автор, прижатый к стенке и пойманный, что
называется, с поличным, должен признаться, что нигде я его не видел,
выдумал из своей головы и вовсе не для примера, а просто от нечего делать.
"Допустим, это так, скажете вы недоверчиво, - но зачем же выдумывать?
Неужели автор не мог взять из жизни настоящего воина-богатыря, высокого,
стройного, дисциплинированного, отличника учебно-боевой и политической
подготовки?"
Мог бы, конечно, да не успел. Всех отличников расхватали, мне вот
достался Чонкин. Я сперва огорчился, потом смирился. Ведь герой книги, он
как ребенок какой получился, такой и есть, за окошко не выбросишь. У
других, может, дети и получше, и поумнее, а свой все равно всех дороже,
потому что свой.
В предыдущей биографии Чонкина не было слишком уж ярких страниц, на
которых стоило бы задерживать ваше внимание, но хотя бы в двух словах
рассказать, откуда он родом, как жил и чем занимался раньше, вроде бы
надо.
Итак, в одной приволжской деревне жила в свое время некая Марьяна
Чонкина, обыкновенная деревенская женщина, вдова. Ее муж, Василий Чонкин
погиб в четырнадцатом году во время империалистической войны, которая, как
известно, потом перешла в гражданскую и продолжалась очень долго. В то
время, когда шли бои за Царицын, деревня, где жила Марьяна, оказалась на
скрещении военных дорог, через нее проходили то красные, то белые,
просторный и пустой дом Марьяны нравился и тем, и другим. Однажды в доме
Марьяны целую неделю квартировал некто прапорщик Голицын, имеющий какое-то
весьма неясное отношение к знаменитому роду русских князей. Потом он уехал
из этой деревни и, должно быть, о ней позабыл, но деревня его не забыла. И
когда через год, а может и больше (никто не считал), у Марьяны родился
сын, в деревне стали посмеиваться, говоря, что тут дело не обошлось без
участия князя.
Правда, еще подозревали в этом местного пастуха Серегу, но Серега
решительно отпирался.
Сына Марьяна назвала Иваном, а отчество ему дала по погибшему мужу -
Васильевич.
Первые шесть лет, о которых у Ивана не осталось никаких воспоминаний,
он прожил в бедности. Мать его была слаба здоровьем, хозяйство совсем
запустила, жила кое-как, перебиваясь с хлеба на воду, пока не утонула
однажды в реке. Пошла в начале зимы полоскать на Волге белье и
провалилась. Именно к этому времени и относятся первые воспоминания
Чонкина о себе и окружающем мире.
Иван не остался один, его приютили бездетные соседи и однофамильцы, а
может быть, даже родственники Чонкины. У них не было детей много лет, они
даже подумывали, не взять ли кого из приюта, а тут подвернулся такой вот
случай. Чонкина одели, обули, а когда он малость подрос, стали приучать
понемногу к хозяйству. То сено пошлют ворошить, то картошку в погребе
перебирать, то еще чего по хозяйству. За это и поплатились.
В известное время стали искать в деревне кулаков, да ни одного не
могли найти. А приказано было найти обязательно, хотя бы для примера.
Тогда нашли Чонкиных, которые эксплуатировали чужой, да к тому же еще и
детский, труд. Чонкиных сослали, а Иван попал в детский дом, где его
больше двух лет почем зря мучили арифметикой. Сначала он все это покорно
переносил, но когда дело дошло до деления целых чисел с остатком, не
выдержал и дал деру в свою родную деревню.
К тому времени он уже немного подрос и у него доставало сил, чтобы
затянуть супонь. Ему дали лошадь и послали работать на молочно-товарную
ферму. И, не забывая о высоком происхождении Чонкина, говорили:
- Князь, запряжешь Чалого, поедешь навоз возить.
В армии его так не звали, потому что не знали этого прозвища, а в
облике его ничего княжеского не было. Командир батальона Пахомов, встретив
Чонкина в первый раз, сказал не задумываясь:
- На конюшню.
Сказал, как приклеил. На конюшне Чонкину было самое место. С тех пор
он и ездил все время на лошади, возил на кухню дрова и картошку. Со
службой своей он освоился быстро и быстро усвоил ее основные законы, как,
например: "Боец спит служба идет", "Не спеши выполнять приказание, его
могут и отменить" и т.д., и т.п. И хотя за всю службу он не стал, подобно
своим сверстникам, ни механиком, ни мотористом, жизнью своей, если бы не
старшина, Чонкин был бы доволен вполне. Его не посылали в наряды, не
заставляли мыть в казарме полы, освобождали от строевой подготовки. Он
даже в казарме почти не бывал, зимой спал обычно на кухне, а летом - в
конюшне на сене. Имея прямое отношение к кухне, питался по норме N 5, то
есть по летной норме Только от одной всеобщей обязанности он не был
освобожденот политзанятий.
4
Летом, в хорошую погоду, политзанятия проходили обычно не в
помещении, а на опушке небольшой рощицы, в стороне от городка. Чонкин, как
всегда опоздал, но на этот раз не по своей вине. Сперва его воспитывал
старшина, потом повар Шурка в самый последний момент послал его на склад
за крупой. Кладовщика на складе не оказалось, пришлось бегать по всему
городку разыскивать. Когда Чонкин приехал наконец на лошади в рощу, все
были уже в сборе. При появлении Чонкина руководитель занятий старший
политрук Ярцев весьма тонко съязвил в том духе, что, мол, раз Чонкин
явился, значит, теперь все в порядке можно и начинать.
Бойцы расположились на небольшой лужайке вокруг широкого пня, на
котором сидел старший политрук Ярцев.
Чонкин разнуздал лошадь и привязал ее неподалеку к дереву, чтобы она
могла щипать траву, а сам себе выбрал место впереди бойцов, подальше от
руководителя занятий. Он сел, поджав под себя ноги, и только после этого
огляделся. И тут же понял, что место выбрал самое неудачное. Рядом с ним,
глядя на него насмешливыми голубыми глазами, сидел его заклятый враг
Самушкин. Этот Самушкин никогда не упускал случая, чтобы устроить Чонкину
какую-нибудь пакость: в столовой смешивал сахар с солью, в казарме ночью
(в тех редких случаях, когда Чонкину все же приходилось там спать)
связывал вместе брюки и гимнастерку, и Чонкин из-за этого опаздывал на
построение. А однажды Самушкин устроил Чонкину "велосипед" - вложил
спящему между ног клочки бумаги и поджег. За это он получил два наряда вне
очереди, а Чонкин трое суток хромал.
Увидев Самушкина, Чонкин понял, что лучше бы он сел в муравейник,
потому что по игривому настроению Самушкина сразу понял, что добра от него
ждать нечего.
Проходили тему "Моральный облик бойца Красной Армии". Старший
политрук Ярцев достал из лежавшего на коленях большого желтого портфеля
конспект, полистал его, вкратце напомнил бойцам то, что проходили на
прошлых занятиях, и спросил:
- Кто желает выступить? Чонкин? - удивился он, заметив, что Чонкин
дернул рукой.
Чонкин встал, оправил под ремнем гимнастерку и, переминаясь с ноги на
ногу, уставился Ярцеву прямо в глаза. Так они смотрели друг на друга
довольно долго.
- Ну что же вы не отвечаете? - не выдержал Ярцев.
- Не готов, товарищ старший политрук, - нерешительно пробормотал
Чонкин, опуская глаза.
- Зачем же вы тогда поднимали руку?
- Я не поднимал, товарищ старший политрук, я жука доставал. Мне
Самушкин бросил за шею жука.
- Жука? - зловещим голосом переспросил Ярцев. - Вы что, товарищ
Чонкин, пришли сюда заниматься или жуков ловить?
Чонкин молчал. Старший политрук встал и в волнении заходил по
лужайке.
- Мы с вами, - начал он, медленно подбирая слова, - изучаем очень
важную тему: "Моральный облик бойца Красной Армии". Вы, товарищ Чонкин, по
политподготовке отстаете от большинства других бойцов, которые на
политзанятиях внимательно слушают руководителя. А ведь не за горами
инспекторская проверка. С чем вы к ней придете? Поэтому, между прочим, и
дисциплина у вас хромает. Прошлый раз, когда я был дежурным по части, вы
не вышли на физзарядку. Вот вам конкретный пример того, как слабая
политическая подготовка ведет к прямому нарушению воинской дисциплины.
Садитесь, товарищ Чонкин. Кто желает выступить?
Поднял руку командир отделения Балашов.
- Вот, - сказал Ярцев, - почему-то товарищ Балашов всегда первым
поднимает руку. И его всегда приятно слушать. Вы конспект приготовили,
товарищ Балашов?
- Приготовил, - скромно, но с достоинством сказал Балашов.
- Я знаю, что приготовили, - сказал Ярцев, глядя на Балашова с
нескрываемой любовью. Отвечайте.
Старший политрук снова сел на пень и, чтобы показать заранее, какое
истинное наслаждение доставит ему четкий и правильный ответ Балашова,
закрыл глаза.
Балашов развернул общую тетрадь в картонном переплете и начал читать
громко, с выражением, не вставляя ни единого своего слова.
Пока он читал, бойцы занимались, кто чем. Один, спрятавшись за спиной
другого, увлекся "Мадам Бовари", другие - играли в "морской бой", Чонкин
предавался своим мыслям. Мысли у него были разные. Внимательно наблюдая
жизнь, постигая ее законы, он понял, что летом обычно бывает тепло, а
зимой - холодно. "А вот если бы было наоборот, думал он, - летом холодно,
а зимою тепло, то тогда бы лето называлось зима, а зима называлась бы
лето". Потом ему пришла в голову другая мысль, еще более важная и
интересная, но он тут же забыл, какая именно, и никак не мог вспомнить. И
мысль об утерянной мысли была мучительна. В это время его толкнули в бок.
Чонкин оглянулся и увидел Самушкина, про которого совсем забыл. Самушкин
поманил его пальцем, показывая, чтобы Чонкин наклонился, он, Самушкин, ему
что-то скажет. Чонкин заколебался. Крикнуть в ухо, пожалуй, побоится,
старший политрук здесь, а плюнутьможет.
- Чего тебе? - шепотом спросил Чо
|